Верят не только
по праздникам
по праздникам
Один день в деревне старообрядцев
Доехать на электричке из Петербурга в Лампово стоит хотя бы для того, чтобы узнать, как хорошие идеи разбиваются о преграды государственной помощи, почему деревенские дома привлекают покупателей и откуда в Ленинградской области большие деревянные дома с каменными пристройками.
10:08
Километровая дорога от станции до деревни пролегает через поле. Среди промерзшей земли непривычно зябко. Нет тьмы машин. Нет плотно стоящих многоэтажек. Сам не замечаешь, как поднимаешь голову к чистому небу, голубизна которого смешивается с насыщенным тёмно-синим цветом, и делаешь глубокий вдох. Здесь пахнет холодной свежестью, поздним осенним солнцем и свободой.
На мгновение наша делегация во главе с Денисом Ермолиным, этнографом и по совместительству председателем старообрядческой общины, останавливается. Стоит какая-то неестественная тишина. Но от цивилизационных привычек
не избавиться – жизнь возвращается желанием запечатлеть умиротворенный вид. Видимо, этот туристический порыв не редкость: Денис улыбчиво наблюдает со стороны. Его руки скрещены на груди, правая поверх левой, – так принято стоять
и на служениях.
– У нас анекдот есть. Как-то в староверческую деревню приезжает археографическая экспедиция, изучающая книги. Представители посещают одну
из бабушек, просят её показать старые книги, если есть, и спрашивают разрешение сфотографировать. Она достаёт, оглядывает их внимательно и говорит сначала одной девушке, а затем другой : «Тебе можно, а тебе нельзя». – «Как же мне нельзя? Почему?» – «А потому что у неё фотоаппарат Канон, а у тебя Никон!»
В Лампово ограничений на технику нет, фотографировать можно всё, кроме моленной. Поэтому мы делаем несколько снимков и двигаемся дальше.
из бабушек, просят её показать старые книги, если есть, и спрашивают разрешение сфотографировать. Она достаёт, оглядывает их внимательно и говорит сначала одной девушке, а затем другой : «Тебе можно, а тебе нельзя». – «Как же мне нельзя? Почему?» – «А потому что у неё фотоаппарат Канон, а у тебя Никон!»
В Лампово ограничений на технику нет, фотографировать можно всё, кроме моленной. Поэтому мы делаем несколько снимков и двигаемся дальше.
Cтарообрядцы не признают реформу патриарха Никона, который в XVII веке, подражая другим странам мира, изменил часть ключевых христианских традиций: древние иконы и книги переписывали
по греческому образцу, ввел новые обряды, троеперстие и т.д.
по греческому образцу, ввел новые обряды, троеперстие и т.д.
Архитектурная солянка
10:34
На Центральной улице начинаешь чувствовать себя ребенком в отделе игрушек: хочется посмотреть
и «потрогать» всё и сразу. Первым нас встречает двухэтажных коричневый дом с бордовым отливом. Украшающие элементы несколько обветшали. Отдельные части балкона с мезонином обросли тонким слоем бархатистого мха. Краска на некогда белых деревянных наличниках и причелине (резная доска на торце крыши) узором в виде овалов
и треугольников местами облупилась. Сквозь окна крылечка-веранды виднеются молочные занавески
с цветами.
и «потрогать» всё и сразу. Первым нас встречает двухэтажных коричневый дом с бордовым отливом. Украшающие элементы несколько обветшали. Отдельные части балкона с мезонином обросли тонким слоем бархатистого мха. Краска на некогда белых деревянных наличниках и причелине (резная доска на торце крыши) узором в виде овалов
и треугольников местами облупилась. Сквозь окна крылечка-веранды виднеются молочные занавески
с цветами.
– Местное население было пришлым из Вологодской
и Архангельской губерний для строительства Петербурга, – поясняет Денис. – Летом мужики работали на земле: пахали, сеяли, выращивали скотину. А зимой уезжали в Петербург и были извозчиками. Это основной источник дохода. Так
в Лампово появились большие северные дома. Уникальность местной архитектуры – в каменных хозяйственных пристройках. В таких сооружениях было сразу всё: и хлев, и гумно, и конюшни, и стайки для скотины. Особенность использования
в строительстве валунов-кругляков жители унаследовали, скорее всего, от финно-угорского населения.
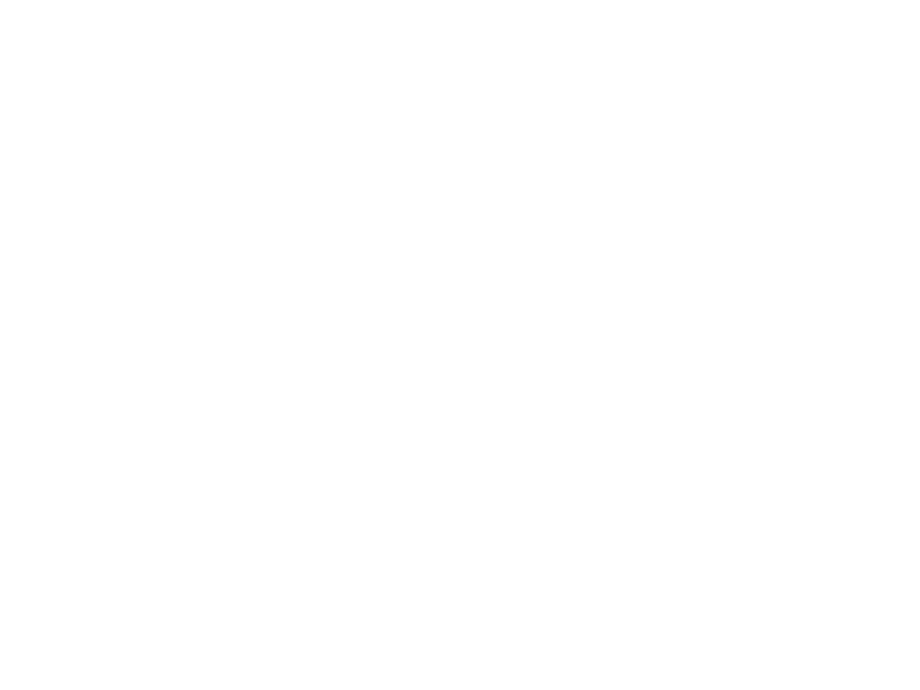
– А чердаки жилые? – спрашиваем мы.
– Где-то чердаки стали летними комнатами,
а где-то они не предназначены для использования. Похожая история
с балконами: некоторые из них сделаны исключительно в подражание городскому строительству, как декоративный фасад для демонстрации финансового благополучия.
Здесь забором служит натянутая сетка рабица. Увы, далеко не все хозяева позволяют разглядеть свои дома так детально: низкие заборы чередуются с высокими пестрыми профлистами, поверх которых выглядывают игрушечные балконы-пародии
и позеленевшие кровли.
Уверенно передвигаемся по улице системным зигзагом, пытаясь отличить исторические постройки конца XIX века от послевоенных: получается не всегда. Всё потому, что хотя типология домов XX века немного изменилась, традиция изготовления наличников долго сохранялась .
– Где-то чердаки стали летними комнатами,
а где-то они не предназначены для использования. Похожая история
с балконами: некоторые из них сделаны исключительно в подражание городскому строительству, как декоративный фасад для демонстрации финансового благополучия.
Здесь забором служит натянутая сетка рабица. Увы, далеко не все хозяева позволяют разглядеть свои дома так детально: низкие заборы чередуются с высокими пестрыми профлистами, поверх которых выглядывают игрушечные балконы-пародии
и позеленевшие кровли.
Уверенно передвигаемся по улице системным зигзагом, пытаясь отличить исторические постройки конца XIX века от послевоенных: получается не всегда. Всё потому, что хотя типология домов XX века немного изменилась, традиция изготовления наличников долго сохранялась .
11:13
Лампово – большая деревня, состоящая из двух частей: исторической и так называемого «Шанхая»
с пятиэтажными домами, которые строились
от совхоза.
В последнее время спрос на жильё в Лампово возрос. Одни предпочитают совсем отказаться от жизни
в шумном городе и перебираются сюда, в особенности пенсионеры и молодежь, имеющая возможность работать дистанционно. Другие остаются на лето,
но уезжают зимой.
с пятиэтажными домами, которые строились
от совхоза.
В последнее время спрос на жильё в Лампово возрос. Одни предпочитают совсем отказаться от жизни
в шумном городе и перебираются сюда, в особенности пенсионеры и молодежь, имеющая возможность работать дистанционно. Другие остаются на лето,
но уезжают зимой.
– У нас есть несколько островков, которые выкупают под индивидуальное жилищное строительство, делят на участки, продают и строят новый массив. Направление, в общем-то, туристическое, дачное. Люди выкупают земли, участки. Цены, конечно,
не малые. В Псковской или Новгородской области можно купить гектар земли тысяч за сто. А у нас все дорого: Петербург близко, в деревне озеро рядом,
да и вообще места тут хорошие. В среднем стоимость на участки и дома варьируется от 800 000 до 6 000 000 рублей, зависит от ровности земли, года постройки, состояния дома. Но это пока. Если газ проведут, всё подорожает.
– И все приезжие – староверы?
– Скорее наоборот. Староверов не много. Много потомков. Иногда они приходят на Пасху или по другим праздникам, чтобы почтить память своих предков: у кого-то бабушки-дедушки, у кого-то прабабушки-прадедушки были довольно крепкими старообрядцами, которые ходили
в храм, знали традиции. Многие ламповцы знают и помнят свои корни – и это главное.
– Скорее наоборот. Староверов не много. Много потомков. Иногда они приходят на Пасху или по другим праздникам, чтобы почтить память своих предков: у кого-то бабушки-дедушки, у кого-то прабабушки-прадедушки были довольно крепкими старообрядцами, которые ходили
в храм, знали традиции. Многие ламповцы знают и помнят свои корни – и это главное.
Такие непохожие и такие дружные
11:36
Не заметить построенный в 60-е годы XIX века дом Дениса сложно: он выделяется не только яркой жёлтой окраской, но и полуциркульным сводом
с атмосферной рукописью 1883 года – цветами, львом и единорогом. Говорят, что дом – отражение сущности хозяина. И в данном случае это суждение подходит как нельзя лучше.
Наш провожатый – общительный мужчина с ясным взглядом и волосами цвета пшеницы. Несмотря на то, что приехал старообрядец из Республики Коми, он кажется неотделимой и уже характерной ламповской частью. Он провёл детство в городе Печора. Его отец – потомственный старовер:
с атмосферной рукописью 1883 года – цветами, львом и единорогом. Говорят, что дом – отражение сущности хозяина. И в данном случае это суждение подходит как нельзя лучше.
Наш провожатый – общительный мужчина с ясным взглядом и волосами цвета пшеницы. Несмотря на то, что приехал старообрядец из Республики Коми, он кажется неотделимой и уже характерной ламповской частью. Он провёл детство в городе Печора. Его отец – потомственный старовер:
«Храма не было, поэтому молились семьи обычно дома, а по положенным дням ходили на кладбище. Тогда я еще не понимал о чём это, но точно знал, что мы – староверы-даниловцы, так говорила моя бабушка Анастасия Ивановна. Даниловцы – другое название для поморского согласия. В тонкости старообрядчества погрузился во время обучения
в Санкт-Петербурге. Посещал храм в Рыбацком, постепенно втянулся и вскоре начал служить там
по выходным»
В 2011 году после очередного грабежа уцелевшая
в Лампово община обратилась за помощью
в Рыбацкое. Откликнулся друг Дениса Вячеслав Михович. Он делал первые шаги по «оживлению» общины. Служить в деревне было некому, поэтому вскоре присоединился и сам Денис.
в Санкт-Петербурге. Посещал храм в Рыбацком, постепенно втянулся и вскоре начал служить там
по выходным»
В 2011 году после очередного грабежа уцелевшая
в Лампово община обратилась за помощью
в Рыбацкое. Откликнулся друг Дениса Вячеслав Михович. Он делал первые шаги по «оживлению» общины. Служить в деревне было некому, поэтому вскоре присоединился и сам Денис.
После раскола русской церкви, когда из жизни ушли последние священники дореформенного периода, старообрядцы разделились на два течения: поповцев (тех, кто счел возможным принимать «беглых попов» из главенствующей церкви) и беспоповцев (тех, кто посчитал, что с гибелью Павла, последнего епископа, не принявшего реформы Никона, поставлять в священники стало некому и священство иссякло). Общинами староверов-беспоповцев управляют наставники – опытные миряне, которые имеют право совершать таинства крещения и исповеди.
В 2016 году Денис женился, и они с супругой задумались о приобретении собственного дома.
– Во время одной из прогулок Василий, мой товарищ, рассказал, что продаётся большой дом. Идея казалась бредовой, но мы решили узнать побольше. Пришли знакомиться, оказалось, что хозяин сдавал дом коммуне хиппи. Совершенно милые ребята. Пару раз даже заглядывали к нам на службу. Стояли в молельне: «Чуваки-и…Кру-уто…». Самое забавное: хоть и с дредами, но все парни были бородатыми. Как-то после службы зашли с Василием посмотреть дом. Было часов 12 дня, а для них – раннее утро. Нас представил их главарь Рома: «Чуваки-и, это пацаны-ы. Пацан-ы, это чуваки-и», потом показал дом, дал номер хозяина.
Я позвонил, договорились обо всем в тот же день.
– Во время одной из прогулок Василий, мой товарищ, рассказал, что продаётся большой дом. Идея казалась бредовой, но мы решили узнать побольше. Пришли знакомиться, оказалось, что хозяин сдавал дом коммуне хиппи. Совершенно милые ребята. Пару раз даже заглядывали к нам на службу. Стояли в молельне: «Чуваки-и…Кру-уто…». Самое забавное: хоть и с дредами, но все парни были бородатыми. Как-то после службы зашли с Василием посмотреть дом. Было часов 12 дня, а для них – раннее утро. Нас представил их главарь Рома: «Чуваки-и, это пацаны-ы. Пацан-ы, это чуваки-и», потом показал дом, дал номер хозяина.
Я позвонил, договорились обо всем в тот же день.
11:57
Реставрирующийся дом Дениса стоит на пригорке. Спускаешься – и попадаешь к небольшому запруду реки Ламповка с нахохлившимися утками и жёлто-зелёными катамаранами. В спокойной воде отражается большое дерево и покрывшаяся инеем качеля на красной веревке.
Сворачиваем направо и направляемся в гости
к геологу Евгению Георгиевичу Платонову. Дорога
к нему несколько обособленна и удалена от основной, вдоль узкой тропинки и возле дома настоящая выставка – чучела, горшки, фигурки самолётиков: «Для внуков». Сохраняет Евгений Георгиевич не только свои, но и брошенные соседями артефакты:
«У меня на чердаке и медный котелок, и прялка,
и скалка, и чего только нет. У каждого где-то что-то интересное да припасено».
к геологу Евгению Георгиевичу Платонову. Дорога
к нему несколько обособленна и удалена от основной, вдоль узкой тропинки и возле дома настоящая выставка – чучела, горшки, фигурки самолётиков: «Для внуков». Сохраняет Евгений Георгиевич не только свои, но и брошенные соседями артефакты:
«У меня на чердаке и медный котелок, и прялка,
и скалка, и чего только нет. У каждого где-то что-то интересное да припасено».
– Был дом у нас, государство всё вокруг него бегало, мол, ценность историческая, – вспоминает мужчина с короткой серебристой бородкой
на вытянутом выразительном лице. – Мы его выкупить хотели, восстановить, внутри все сделать. Уж наполнить-то мы бы её сумели.
Но нам отказали: «Как так, частному лицу, государственное здание?» Наняли они туда сторожа, местного пьяницу, и даже принялись свозить туда какие-то вещи. Быстро оттуда всё потащили. Я в отпуске летом был, да такой страшный грохот раздался: покосило его, дом этот, он и развалился. Теперь уж всё сгнило, даже и бревен не осталось. А участок тот «государственный» до сих пор никому и не дают купить.
на вытянутом выразительном лице. – Мы его выкупить хотели, восстановить, внутри все сделать. Уж наполнить-то мы бы её сумели.
Но нам отказали: «Как так, частному лицу, государственное здание?» Наняли они туда сторожа, местного пьяницу, и даже принялись свозить туда какие-то вещи. Быстро оттуда всё потащили. Я в отпуске летом был, да такой страшный грохот раздался: покосило его, дом этот, он и развалился. Теперь уж всё сгнило, даже и бревен не осталось. А участок тот «государственный» до сих пор никому и не дают купить.
Уже давно активисты старообрядческой общины хотят приобрести маленькую избушку и открыть там музей. Идея-то есть, а вот с местом и деньгами – сложности.
В запустение с такими наставниками музей бы точно не пришёл. Помимо искусственных экспонатов на участке у Евгения Георгиевича еще и естественные: родник и самые необычные для этой местности деревья: пихта, маньчжурский орех, лиственница.
В конце 70-х он сажал их маленькими черенками,
а сейчас их кроны вытянулись к небу.
Старовер Евгений Георгиевич по линии деда, который, вернувшись с японской войны, взял в жёны девушку из Лампово. Она была другого вероисповедания, так что должна была креститься в старую веру.
– Дело было зимой, это в той церкви из теплого чайника побрызгают (имеет в виду РПЦ, – прим. автора) – и готово, а у нас в прорубь окунают. После этого бабушка стала рьяной старообрядкой. Она меня потом потихонечку в церковь отвела и крестила.
В конце 70-х он сажал их маленькими черенками,
а сейчас их кроны вытянулись к небу.
Старовер Евгений Георгиевич по линии деда, который, вернувшись с японской войны, взял в жёны девушку из Лампово. Она была другого вероисповедания, так что должна была креститься в старую веру.
– Дело было зимой, это в той церкви из теплого чайника побрызгают (имеет в виду РПЦ, – прим. автора) – и готово, а у нас в прорубь окунают. После этого бабушка стала рьяной старообрядкой. Она меня потом потихонечку в церковь отвела и крестила.
– А как это – быть старообрядцем?
– Я вот на службу хожу, но только по большим праздникам. По воскресеньям пропускаю. И пост соблюдаю...
– Дядь Жень, а ведь сегодня среда, сегодня без масла! – шутит Денис. У староверов принято поститься по средам и пятницам.
– …пост соблюдаю, но только большой, – уточняет Евгений Георгиевич. – Сегодня нет – без меня. Когда один живешь, тяжело разные супы через день варить. А к многодневным постам я готовлюсь: в субботу уже товарищам всё мясо раздаю.
– Я вот на службу хожу, но только по большим праздникам. По воскресеньям пропускаю. И пост соблюдаю...
– Дядь Жень, а ведь сегодня среда, сегодня без масла! – шутит Денис. У староверов принято поститься по средам и пятницам.
– …пост соблюдаю, но только большой, – уточняет Евгений Георгиевич. – Сегодня нет – без меня. Когда один живешь, тяжело разные супы через день варить. А к многодневным постам я готовлюсь: в субботу уже товарищам всё мясо раздаю.
Часовня у яблоневого сада
12:48
Путь в моленную лежит через широкую дорогу, усыпанную гравием. По соседству стоит небольшая избушка с яблоневым садом. Красные плоды, по которым ударили первые морозы, сморщившись, ожидают помощи если не от людей, то от птиц. А их-то здесь точно не мало. Пока на одних деревьях умещается лишь одно массивное гнездо аиста, на других уживаются по пять или даже шесть птичьих семей поменьше, поскромнее и, видимо, пообщительнее.
Беспоповский старообрядческий храм святого Николы Чудотворца – часовня, выкрашенная в цвет морской волны, с красной фальцевой кровлей, белыми кружевными причелинами, и небольшой колокольней. Заходим внутрь. Правая дверь небольшого деревянного коридора открывает для нас саму моленную, скромное помещение площадью около 25 квадратных метров разделено на три части. Слева
в «прихожей» висят простые чёрные облачения, мужские кафтаны и женские сарафаны, а справа,
у стены и межкомнатной перегородки, стоит стол
с календарями, информационными листками, свечами, лестовками – для продажи. Вырученные деньги идут на содержание храма.
в «прихожей» висят простые чёрные облачения, мужские кафтаны и женские сарафаны, а справа,
у стены и межкомнатной перегородки, стоит стол
с календарями, информационными листками, свечами, лестовками – для продажи. Вырученные деньги идут на содержание храма.
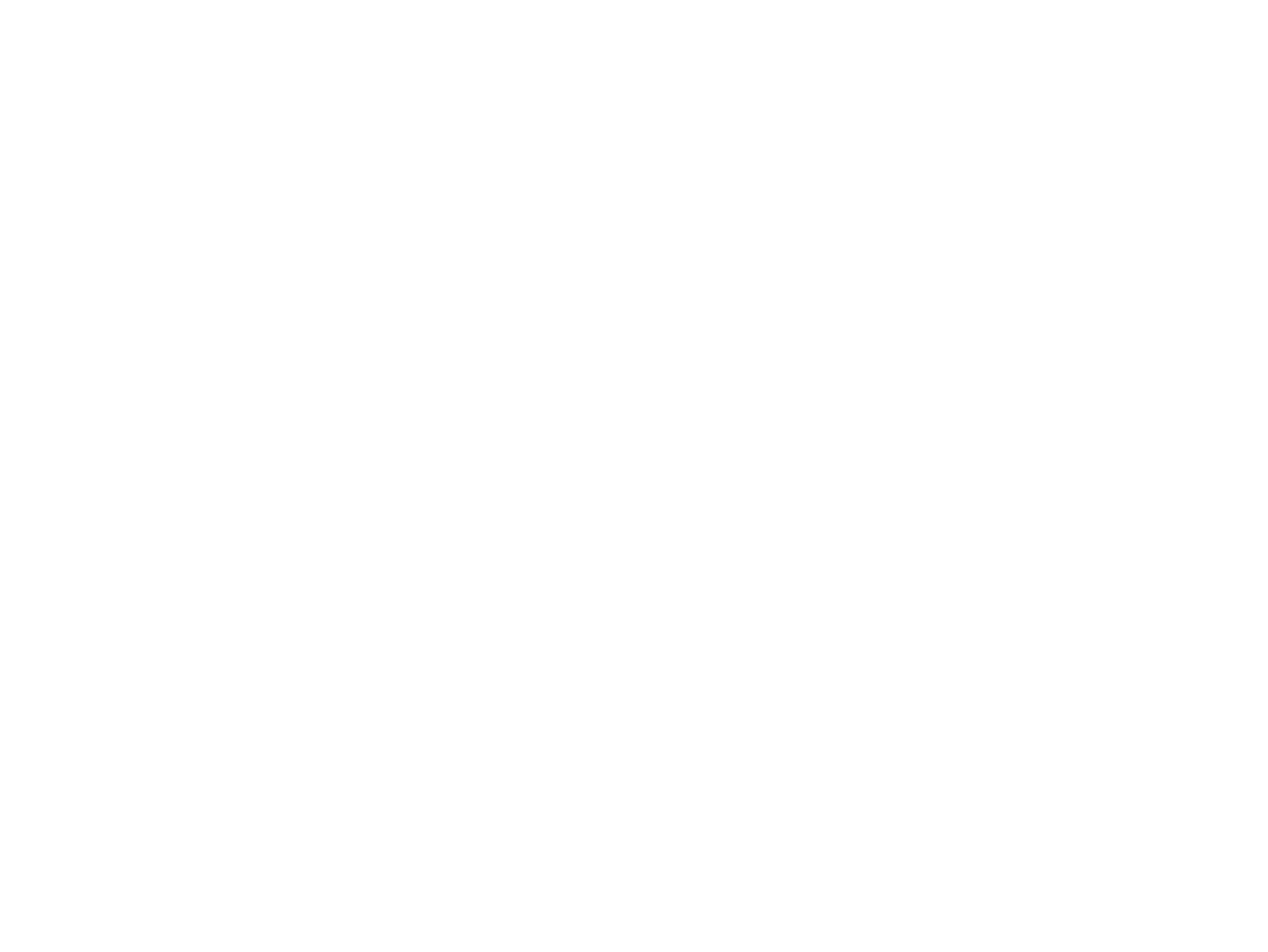
В основной части в два ряда расположены лавочки высотой до колен. Сидеть здесь можно, а на некоторых частях службы – даже нужно. Например, на чтении поучительных книг. Службу проводят сам Денис и его товарищ, монах Василий. Помогают им певчие. Здесь сохраняется погласица, особая тональность в чтении текста в зависимости от жанра.
У Дениса ровный звучный голос. Складывается впечатление, что в пустом помещении именно его эхо сохранялось бы дольше всего, вибрируя в стенах и пытаясь вырваться наружу; хотя говорит он протяжно, медленно, с небольшим монотонным «напевом» и четкими паузами в каждой части предложения.
Словно тень в углу – маленькая тёмная печь. Почерневший потолок. Синие стены. Бордово-коричневый пол, холодный настолько, что это чувствуется даже через сапоги. Запах сырости
и старого дерева. У окон – иконы на узких маленьких полках и рушники с вышивками. В отличие от православных церквей нет никакой роскоши.
Небольшие узкие ступени ведут к престолу
и иконостасу. Старообрядческие иконы развиваются
в русле дораскольных церковных традиции: на них не повлияли классицизм или барокко.
Исторически было два яруса иконостаса: апостольский и праздничный чины. Но их украли: «Думаю, что кто-то работал под заказ», – говорит Денис. Храм грабили, начиная с 1990-х и заканчивая 2011 годом, все ценные иконы были вынесены.
– От новообрядческой общины мы отличаемся. Самый простой пример: зачастую там право голоса имеют поп, его жена и бухгалтер, а у нас прислушиваются
к прихожанам. Мы приглашаем их на собрания
и решаем все вместе, в диалоге. Да, споры могут продлиться целый день, но зато мы придём
к согласию.
и старого дерева. У окон – иконы на узких маленьких полках и рушники с вышивками. В отличие от православных церквей нет никакой роскоши.
Небольшие узкие ступени ведут к престолу
и иконостасу. Старообрядческие иконы развиваются
в русле дораскольных церковных традиции: на них не повлияли классицизм или барокко.
Исторически было два яруса иконостаса: апостольский и праздничный чины. Но их украли: «Думаю, что кто-то работал под заказ», – говорит Денис. Храм грабили, начиная с 1990-х и заканчивая 2011 годом, все ценные иконы были вынесены.
– От новообрядческой общины мы отличаемся. Самый простой пример: зачастую там право голоса имеют поп, его жена и бухгалтер, а у нас прислушиваются
к прихожанам. Мы приглашаем их на собрания
и решаем все вместе, в диалоге. Да, споры могут продлиться целый день, но зато мы придём
к согласию.
К благочестивым христианам староверы вообще относятся с особенным доверием. В патриаршей церкви кадить позволительно только попу – здесь любой мирянин по желанию имеет дома кацею, закрытый крышкой металлический кадильный ковш на деревянной ручке.
– Такая форма появилась раньше, чем кадило на цепях. Внутрь кладутся угли, когда они разгораются, как в самоваре, и становятся красными, поверх сыплется смола хвойных деревьев – ладан. Главное, чтобы всё было натуральным, без дополнительных ароматизаторов. Не пошел на Пасху в храм во время коронавируса – можешь сам дома покадить куличи или яйца. А не подносить их, как это делают некоторые иноверные, к телевизору.
Не менее значимыми особенностями старообрядческого богослужения являются подручники и лестовки.
– Такая форма появилась раньше, чем кадило на цепях. Внутрь кладутся угли, когда они разгораются, как в самоваре, и становятся красными, поверх сыплется смола хвойных деревьев – ладан. Главное, чтобы всё было натуральным, без дополнительных ароматизаторов. Не пошел на Пасху в храм во время коронавируса – можешь сам дома покадить куличи или яйца. А не подносить их, как это делают некоторые иноверные, к телевизору.
Не менее значимыми особенностями старообрядческого богослужения являются подручники и лестовки.
13:37
Жуковка и Бертовка – жилые улицы. В отличие
от Центральной, дорога здесь узкая, без асфальта. Вчера был дождь, а сегодня уже минусовая температура, потому лужи покрылись тонким слоем льда. Наступаешь слегка, как он сразу трескается
и белеет. Дома здесь разнообразны, не похожи.
Человеку, который не разбирается в архитектуре, заметить разницу будет сложно.В целом же складывается ощущение неразумного смешения всего подряд. За ветшающей заброшенной избушкой начала XX века следует новостройка со свежим сайдингом. Ухоженный дворик с аккуратными грядками граничит с заросшим густой травой брошенным участком. Странно то, что, казалось бы, несовместимое, весьма органично сочетается. Удивительным образом эта сборная солянка не выглядит неуместной.
14:24
Реальный быт староверов совсем не похож на тот, что описывается в рассказах и распространённых стереотипах. Во всяком случае, ламповская община толерантна к проявлению иных жизненных принципов и довольно демократична как в вопросах веры, так и быта. Местные старообрядцы похожи на хранителей традиций предков, которые в эпоху тотального безверия пытаются быть снисходительными к людям.
Часто это выражается в допущении наличия повсеместно разошедшегося в мелочах «но если». По церковным правилам нельзя есть за одним столом
с иноверными, но если есть гостевая посуда (как в Лампово, где с удовольствием встречают и угощают гостей чаем за дружеской беседой) – можно, просто потом её нужно будет густо кадить ладаном. Все мужчины должны носить бороду, но если по каким-либо причинам (например, из-за профессии) нужно ходить без неё – допустимо не носить. Нельзя пить чай и кофе, но если сильно любишь эти напитки – ничего страшного, пей.
с иноверными, но если есть гостевая посуда (как в Лампово, где с удовольствием встречают и угощают гостей чаем за дружеской беседой) – можно, просто потом её нужно будет густо кадить ладаном. Все мужчины должны носить бороду, но если по каким-либо причинам (например, из-за профессии) нужно ходить без неё – допустимо не носить. Нельзя пить чай и кофе, но если сильно любишь эти напитки – ничего страшного, пей.
Отвечают за поступки не перед людьми, а перед Богом: пришедшие на исповедь должны быть готовы понести церковное наказание – епитимью, предполагающую дополнительную домашнюю молитву по лестовке или другие ограничения.
В разгар дня в деревне уважительно тихо. Лишь изредка, увидев чужие лица, шумят упитанные дворовые собаки. Туда и обратно ездит на велосипеде мужичок с серебристой бородой.
В разгар дня в деревне уважительно тихо. Лишь изредка, увидев чужие лица, шумят упитанные дворовые собаки. Туда и обратно ездит на велосипеде мужичок с серебристой бородой.
В группе общины деревни Лампово можно найти не только исторические сведения, но и информацию о дне открытых дверей. Пообщаться
с жителями может каждый желающий независимо от веры или марки фотоаппарата.
с жителями может каждый желающий независимо от веры или марки фотоаппарата.