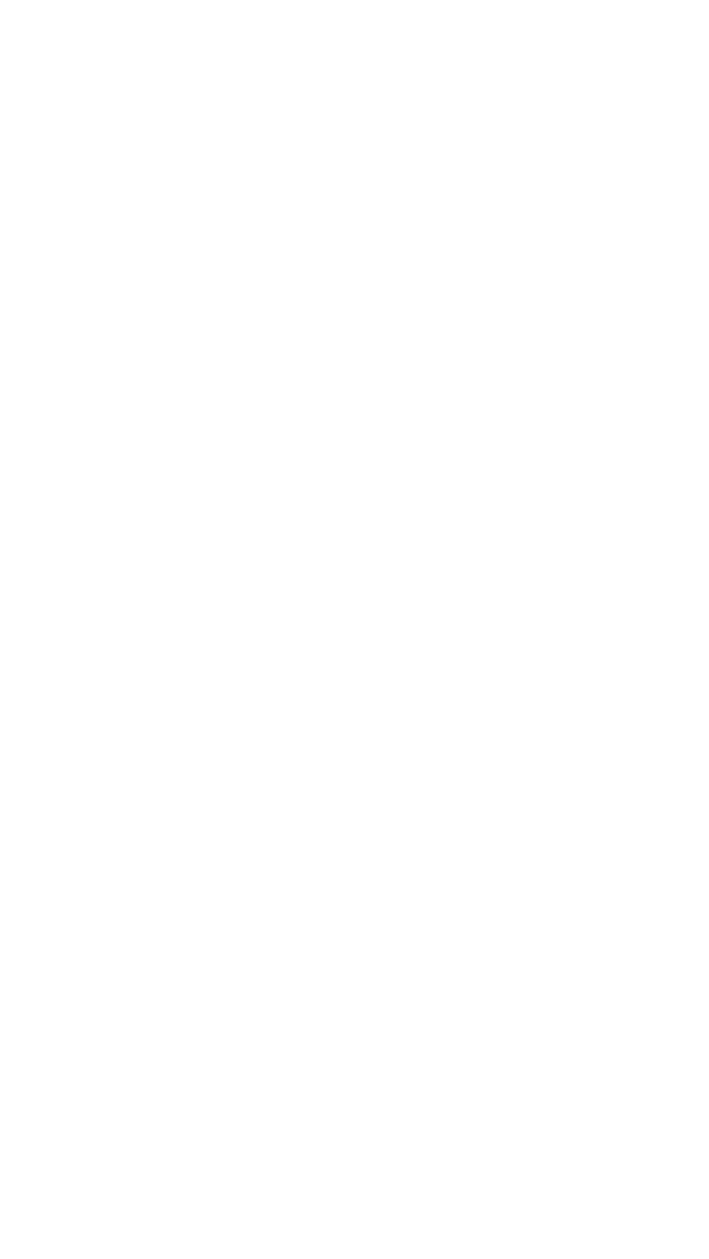ОСКОЛКИ ДЕКОРАЦИЙ
«Август. Погода жаркая... Пора бы уже начать готовиться к новому театральному сезону. Но администрация молчит, никто ничего не знает, ползут разные слухи, даже о возможности эвакуации»
Приглушенный свет, позолоченные балконы, красный занавес. Вокруг все обсуждают предстоящий спектакль, перешептываются, смеются. Артисты балета последний раз поправляют костюмы, готовятся к выходу. Первый звонок... Второй звонок... Третий звонок... Играет музыка и занавес поднимается. Оркестр своей игрой сопровождает стук пуантов и шелест пачек. Повороты, прыжки и рисунки танца притягивают взгляд к сцене. Не могу не смотреть! Здесь так хорошо! Вдруг мысль: «А ведь в блокаду здесь тоже танцевали, тоже трудились артисты».



22 июня 1941 года была назначена репетиция выпускного спектакля Ленинградского хореографического училища (сейчас: Академия русского балета им. А. Я. Вагановой). "Бэла". Нонна Ястребова, советская балерина, участвующая в этом спектакле, вспоминала: «Началась репетиция. В антракте после первого акта мы услышали по радио страшные слова: “война”». Театр встретил новость о начале Великой Отечественной войны на репетиции.
Многие сотрудники с началом боевых действий были призваны в Красную армию или ушли добровольцами. Оставшихся артистов распределили в концертные бригады. Они каждый день выступали в военных частях перед молодыми юношами, которым через несколько дней предстояло отправиться на войну. Артисты и работники театра им. Кирова (сейчас: Мариинский театр), не участвующие в концертах на передовых, работали в мастерских.
Многие сотрудники с началом боевых действий были призваны в Красную армию или ушли добровольцами. Оставшихся артистов распределили в концертные бригады. Они каждый день выступали в военных частях перед молодыми юношами, которым через несколько дней предстояло отправиться на войну. Артисты и работники театра им. Кирова (сейчас: Мариинский театр), не участвующие в концертах на передовых, работали в мастерских.
Нонна Ястребова - советская и российская артистка балета, выступавшая на сцене Театра оперы и балета им. Кирова (Мариинский театр)
“
Мои впечатления первого дня: выступаем в небольших помещениях, наши зрители — мобилизованные юноши. Большинство из них сидели прямо, головы подняты, взгляд открытый, они были, казалось, полны решимости и в последние минуты жизни в мирной обстановке не отказывались от впечатлений, принимали концерт, смотрели и слушали внимательно, а некоторые были рассеяны, взгляд отсутствовал, они слушали, но не слышали, смотрели и не видели...
«Я проводила сестру, солистку Малого оперного театра Ксению Сахновскую... Она уехала этим эшелоном со своей трёхлетней дочерью Галей. Один Бог знает, что стоило нам это расставание... Долго стояла я на перроне и смотрела вслед ушедшему поезду, и так болела душа...»
К июлю работа в цехах закончилась. В этом же месяце началась эвакуация предприятий и детей. Родителям тяжело. Они прощались с детьми на неопределённое время. Вокзал. Люди плачут, прощаются друг с другом. Рядом семьи, которые верят, что скоро увидятся. Наталья Сахновская тоже была в тот день на перроне вокзала:
19 августа 1941 года была объявлена эвакуация Театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Готовилось два эшелона: на первом уезжали театр с костюмами, нотами, осветительной аппаратурой, бутафорией и часть артистов, на втором – остальные. Однако всем эвакуироваться не удалось. Второй эшелон не выехал из города. Враг пришёл быстрее, чем ожидалось. 27 августа 1941 года железнодорожное сообщение с Ленинградом было прервано, а 8 сентября немцы окружили город с суши.
Обстрелы и налёты становились обыденностью, страшной привычкой. Люди по сигналу сирен спускались в бомбоубежища и ждали. Снаряды фашистов долетали до центра города. 19 сентября 1941 года 250-килограммовая фугасная бомба попала в правое крыло театра.
«Я услышала, что в здание нашего театра попала бомба. Мне стало так страшно, что несколько дней я не решалась пойти посмотреть на него. Наконец, собравшись с духом, отправилась и, войдя со стороны улицы Глинки на площадь, остановилась. Правое крыло было разрушено, входа в дирекцию не существовало – вместо него зияла огромная дыра. Стоя на углу, я смотрела и плакала. Я вошла в театр – там было темно, мрачно, неуютно, холодно», – вспоминала советская балерина и педагог Ольга Иордан.

Несмотря на разрушение Кировского театра артисты объединялись в группы и выступали в уцелевших филиалах. Представления назначались, продолжались репетиции. Программу театра в первый блокадный год придумала Агриппина Яковлевна Ваганова. Под её руководством началась работа над спектаклями и сольными номерами.
В ноябре налёты усиливались. Спектакли прерывались. Музыка останавливалась. Норма хлеба уменьшалась. Разрушения продолжались. Электричества и топлива не было. Сил у артистов тоже не было. Наступила суровая зима 1941-1942 года. Декабрь назвали «смертным временем». Для искусства не было сил. Музыка не звучала. Балет не танцевал. Актёры не играли. Радио работало редко. В гостинице «Астория» организовали стационар для ослабевших и истощённых деятелей науки и культуры, чтобы спасти их жизнь. Ольга Иордан была пациентом этого стационара. Там были музыкальные инструменты, но ими редко пользовались. Балерина вспоминала: «…в темноте послышались звуки пианино. Кто-то играл тихо, медленно, но с большим мастерством и чувством. Трудно описать волнение, охватившее меня, когда я впервые за несколько месяцев услышала музыку: она подействовала на меня невероятно, и я чуть не расплакалась».










Наступала весна. Она принесла с собой свет и надежду. Вместо нескольких сотен грамм хлеба начали выдавать пайки, но это не спасало от гибели. Изголодавшиеся люди набрасывались на еду, но желудок не мог переварить пищу. Он разучился получать вещества из питания: блокадный хлеб содержал большое количество примесей, из которых организму сложно было образовать полезные вещества. Надо было заново научиться есть, ведь в блокадном Ленинграде развилась особенная болезнь - алиментарная дистрофия. В таком случае организм не мог переварить пищу, состоящую из питательных веществ. Пища не усваивалась, шанс погибнуть увеличился. Ситуации помогла диета: надо есть всё маленькими порциями, пока организм не привыкнет к питанию заново, но такой способ помогал не всем. Многих не удалось спасти.
С приходом тепла работа театра возобновилась. Главными событиями культурной жизни лета 1942 года были постановка адаптированной для артистов оперы «Кармен» и исполнение Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. В «Кармен» читали фрагменты произведения Мериме, исполняли песни и арии. Артистам тяжело было исполнять жизнерадостных испанцев: их исхудавшие лица после первой блокадной зимы не придавали ощущения достатка. Весь 1942 год «Кармен» шла в театрах. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича первый раз появилась на сцене Ленинграда 9 августа 1942 года. Музыкантов искали по всему городу и на ближайшей передовой, и нашли. Выступление состоялось в день, когда Гитлер собирался праздновать взятие Ленинграда в гостинице «Астория» в центре города. В тот день защита Ленинграда была обеспечена: ни один немецкий снаряд не прервал представления. Симфония стала символом борьбы с фашистами.
Артисты Роберт Гербек и Наталья Сахновская, муж и жена, выступали на концертах для Красной армии. Танцовщиков искали по всему городу. Театр узнавал, кто остался жив, кто ещё сможет выступать. Артистов находили через медпункты. У врачей был список с ранеными и умершими. Если человека не было в списке, значит он жив, и необходимо узнать у знакомых, где он.
Артисты Роберт Гербек и Наталья Сахновская, муж и жена, выступали на концертах для Красной армии. Танцовщиков искали по всему городу. Театр узнавал, кто остался жив, кто ещё сможет выступать. Артистов находили через медпункты. У врачей был список с ранеными и умершими. Если человека не было в списке, значит он жив, и необходимо узнать у знакомых, где он.







“
Сердце заколотилось, неуверенно поднялись мы по ступенькам на эстраду. Ноги с трудом поспевают за музыкой. Всего несколько движений, а мы уже почти выбились из сил. Голова кружится, в глазах темнеет, несколько раз мы солидно споткнулись, едва удержавшись на ногах. К счастью, я в «наилегчайшем весе», и Роберт Гербек с трудом, но может поднимать меня. Скорее бы конец, только бы дотянуть... И, о радость — аплодисменты, аплодисменты! Мы — артисты...
Для Седьмой симфонии с трудом собирали музыкантов, для театра оркестр собрать уже не смогли. Поэтому всем приходилось работать вместе. Постановки сопровождались оперой под руководством Ивана Нечаева и балетом, возглавляемым Ольгой Иордан. Учитывались силы артистов: кто мог стоять - стоял, кто мог сидеть - сидел. Они танцевали в меру своих возможностей.
Балетная группа занималась в классах хореографического училища. Там и проводились репетиции, принимались решения о концертах и спектаклях. Началась деятельность: восстанавливали репертуар, репетировали номера. Но некоторые педагоги училища остались в городе и искали детей, которые могли бы заниматься балетом. Так был организован первый блокадный набор в хореографическое училище.
Балетная группа занималась в классах хореографического училища. Там и проводились репетиции, принимались решения о концертах и спектаклях. Началась деятельность: восстанавливали репертуар, репетировали номера. Но некоторые педагоги училища остались в городе и искали детей, которые могли бы заниматься балетом. Так был организован первый блокадный набор в хореографическое училище.
Постоянные выступления в госпиталях, на заводах, для бойцов не возвышали артистов над жителями. Они выступали в любых местах, чаще всего непредназначенных для этого. Они совершали ошибки, падали, не попадали в ноту или такт. Они выглядели такими же измученными и исхудалыми, как все. Они всегда поднимали настроение уставшим жителям и защитникам города. Но постоянные передвижения, выступления на разных сценах города выматывали: никогда не знаешь, когда начнётся налёт. Поэтому 18 октября 1942 года открылся Городской или Блокадный театр, в котором и разместились все артисты балета или оперы, актёры, музыканты. Театр начал свою деятельность драматическим спектаклем «Русские люди» по пьесе Константина Симонова.
Первый полноценный балетный спектакль был дан 18 декабря 1942 года в Блокадном театре. Артисты представили «Эсмеральду», к которой готовились несколько месяцев. Спектакль восстановила Ольга Иордан, сократив его, чтобы танцовщики смогли справиться с нагрузкой.
Первый полноценный балетный спектакль был дан 18 декабря 1942 года в Блокадном театре. Артисты представили «Эсмеральду», к которой готовились несколько месяцев. Спектакль восстановила Ольга Иордан, сократив его, чтобы танцовщики смогли справиться с нагрузкой.

“
Наконец настал день премьеры. Все мы в волнении... гримироваться приходится, не снимая пальто, температура низкая, но электричество горит, и всё же надо натягивать трико и балетные костюмы... <…> девушки, такие тоненькие, изящные в балетных тюничках, дрожат от холода и волнения. Тщетны все разминки, ног не разогреть... Третий звонок, смолкли голоса, зажглась рампа, поднялся занавес... спектакль начался... Наша «Эсмеральда» увидела свет
«Эсмеральда» понравилась публике. Зрители аплодировали без перчаток, хоть и было очень холодно. Спектакль до конца войны появлялся на сцене тридцать один раз.
Пришла такая же суровая, как первая, вторая блокадная зима или «война и сопротивление», по прозванию жителей. Теперь блокадники готовы к ней: они не отчаиваются, а верят в освобождение и спасение: «Успешно ведут бои наши армии ленинградских фронтов, работают заводы, вырабатывая военную продукцию. Открылись учреждения, наладился труд, люди вернулись к своим профессиям, и все силы устремлены на сопротивление и оборону. И наша деятельность продолжает расширяться. Артисты оперы и балета работают от Кировского театра, собственно, это продолжение нашей службы в театре, и явка на любой вызов для нас обязательна» - писала в своём дневнике Наталья Сахновская.
Второй блокадной зимой концерты не прекращались. Условия тяжёлые, но артистам это в радость. Они отвлекали людей от ежедневной боли и горя и спасались сами.
Второй блокадной зимой концерты не прекращались. Условия тяжёлые, но артистам это в радость. Они отвлекали людей от ежедневной боли и горя и спасались сами.
За репетициями и выступлениями прошло лето 1943 года. Программа артистов усилилась: они готовили новые представления. Одним из масштабных спектаклей, подготовленных в 1943, - «Конёк-Горбунок». Он шёл уже на другой сцене, но премьера успешно состоялась в Городском театре. Из Блокадного театра артисты перебрались в Малый оперный
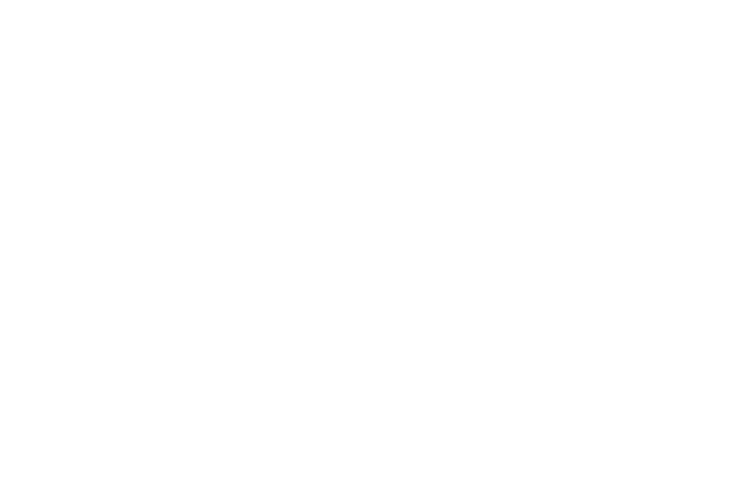
Городской театр - место, которое создано в годы блокады для представлений на военную тему всех оставшихся в Ленинграде артистов. Многие группы выступали на маленькой сцене, полностью уцелевшей от обстрелов и налётов. К 1943 году артистам стало тесно выступать в Блокадном театре, поэтому решено - надо восстановить сцену Малого оперного театра, которая немного пострадала из-за военных действий. Так артисты вернулись на большую сцену.

“
Вчера, 25 августа, в последний раз наш коллектив выступил в нашем Блокадном городском театре и показал второй раз нашу премьеру, балет «Конёк-Горбунок». Мы с грустью попрощались с нашим маленьким театром, приютившим нас в суровые дни. Танцевалось с вдохновением. Для оперных и балетных спектаклей приводится в порядок сцена Малого оперного театра, мы очень рады. Ура!
Артисты продолжали выступать и их труды были оценены 18 октября: «Торжественный день в нашей жизни. Нам, артистам, вручают медали «За оборону Ленинграда». Нет слов, как мы счастливы, наш труд признан Правительством и признано наше участие в борьбе за наш город. Мы все были взволнованы».

Считанные дни до прорыва. Обстрелы уменьшались, затихали. Вести с фронта обнадёживающие. Скоро освобождение…
“
27 января 1944 года! Зимний, пасмурный день клонился к вечеру. Затемнённый город тонул в полумраке. Тишина. Ни одного взрыва... затих и грозный гул отдалённой канонады... и вдруг весть! Наша армия одержала Победу, полностью разгромлен враг под Ленинградом, блокада снята... Великий праздник! Снята блокада! Какое счастье! Нет слов передать наше волнение и радость. Мы все выбежали на улицу, чужие люди бросались друг другу в объятия, плакали, торжествовали, рыдая... Раздался оружейный залп... Город салютовал нашим войскам, отстоявшим Ленинград. Высоко в небо взметнулся фейерверк и озарил город... столько огней... столько света... и свет вошёл в наши дома, в нашу жизнь и в наши души… <…> Встали на ремонт наши театры — и Малый оперный, и наш Кировский. Ждём возвращения театра из эвакуации...
Юлия Тарасова